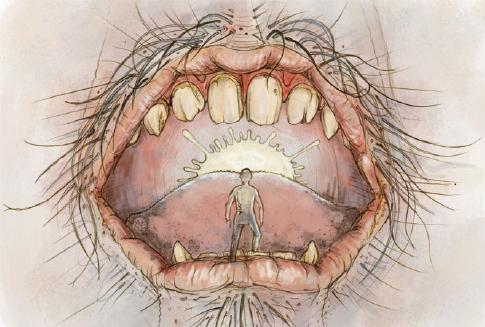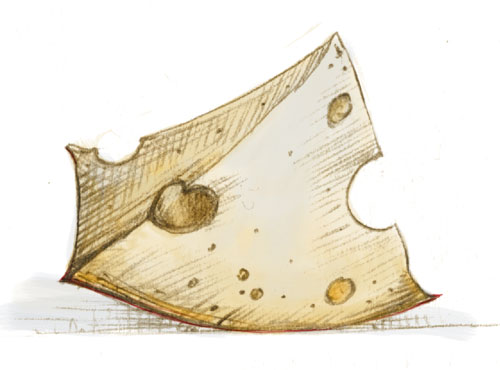|
Большие разноцветные шары вспыхивали и гасли, образуя в
небе знакомые фигуры.
-- Это Большая Медведица. А вон полетела Кассиопея.
А это, видимо, Южный Крест, -- бубнил скучный гнусавый
голос где-то с левого бока.
 |
-- Вы -- кот! -- с укором сказал ученый. Он прищурил
глаза, поморщился, пытаясь встать.
-- На себя посмотри, -- буркнул кот. -- Тоже, знаешь,
не пряник. -- С трудом перегнувшись через собственный
хребет, принялся вылизывать заднюю лапу. Жирный был
очень, а так красивый кот, черный.
Ученый на секунду задумался и вдруг испуганно спросил:
-- Я превратился в пряник?
-- А что, ты умеешь? -- живо заинтересовался кот. Он
придвинул ближе усатую морду и жадно промурлыкал: -- А
мможешь в ммышку? В ммаленькую ммышку, ммилейший ммаг,
продеммонстрируй ммогущество, ммудрость и ммастерство!
|
-- Сейчас, -- хмуро пообещал ученый, -- рассыплюсь пред
тобой излюбленным кошачьим кормом "вискас" и сверху
польюсь сметаной.
-- Нет! -- кот в ужасе отпрянул, -- Только не вискас!
Уммоляю тебя. Я сделаю все, что прикажешь! --
голос его стал бархатным, отчаянно хитрым. -- Я только
хотел проверить тебя, точнее, я лишь в шутку усоммнился
в тебе, ммастер, чтобы мы могли вдвоем посммеяться.
Моя ммечта -- служить тебе верой и правдой! -- Он
нервно облизнулся. -- Успокой мменя, дай комманду!
-- Хорошо, -- пожал плечами ученый. -- Расскажи, что
это за место.
-- Это мместо? -- вертикальные зрачки кота стали узкими,
страшными щелками. -- Ты хочешь, чтобы я назвал это мместо?
-- Да, -- сказал ученый.
-- Ну что ж... -- задумчиво промурлыкал кот, -- пусть
это будут... Большие Бячины. -- Он поднялся, махнул
хвостом, -- Я пошел, привет.
-- Постой, -- ученый, что-то вспомнив, приподнялся на
локте, -- как мне попасть в Нетополь?
-- Сейчас, -- кот недобро усмехнулся, -- тебе лучше
подумать о том, как отсюда выбраться.
-- Хорошо, а в Апельсиновую Рощу? -- спросил ученый. --
Хотя бы это ты знаешь?
-- Ты не понял, -- с притворным сожалением вздохнул
кот. -- Впрочем, попробуй узнать у Йочина. Он будет
здесь, -- кот понюхал воздух, -- с минуты на минуту.
Сбежать ты все равно не успеешь, вот и спроси.
 Говоря последние слова, кот таял в воздухе. Лапы,
хвост, грузное туловище исчезали на глазах, как бы
размазываясь некрасивым пятном. "Сейчас одна
улыбка повиснет тут," -- с раздражением подумал ученый;
его тошнило. Но и сама улыбка быстро исчезла,
сверкнув зубами. Ученый остался один. Вокруг
него нарисовалась болотистая местность на сером
свинцовом фоне; пожалуй, что-то было в этом унылом
зрелище, цепляло за сердце. Только несколько портил
вид рассыпанный по кочкам, по извилистым корягам, по
мелким кустикам с красными и желтыми ягодами подмокший
грязновато-белый порошок. "Для чего он здесь? --
рассеянно подумал ученый. -- Удобрения? Магия
какая-то?" -- и тут же, рассердившись на себя,
приподнялся и сел. Сидеть был мокро. "Легко же
я готов списать все на магию. Леность ума, уходящего
от объяснений! "Магия" -- из всех самое неинтересное."
Настоящие ученые думают так, и тут с ними не сговоришься.
На то у них есть причины. А на самом деле магия -- это
искусство говорить правду.
Говоря последние слова, кот таял в воздухе. Лапы,
хвост, грузное туловище исчезали на глазах, как бы
размазываясь некрасивым пятном. "Сейчас одна
улыбка повиснет тут," -- с раздражением подумал ученый;
его тошнило. Но и сама улыбка быстро исчезла,
сверкнув зубами. Ученый остался один. Вокруг
него нарисовалась болотистая местность на сером
свинцовом фоне; пожалуй, что-то было в этом унылом
зрелище, цепляло за сердце. Только несколько портил
вид рассыпанный по кочкам, по извилистым корягам, по
мелким кустикам с красными и желтыми ягодами подмокший
грязновато-белый порошок. "Для чего он здесь? --
рассеянно подумал ученый. -- Удобрения? Магия
какая-то?" -- и тут же, рассердившись на себя,
приподнялся и сел. Сидеть был мокро. "Легко же
я готов списать все на магию. Леность ума, уходящего
от объяснений! "Магия" -- из всех самое неинтересное."
Настоящие ученые думают так, и тут с ними не сговоришься.
На то у них есть причины. А на самом деле магия -- это
искусство говорить правду.
Ученый ждал, и вот, отделившись от тени лежачего,
должно быть, давно сгнившего внутри себя дерева,
небольшой мужичок потоптался в мокрой ямке под
ногами, как будто что-то стряхивая с кочки грязных,
спутанных волос на круглой голове, и двинулся к нему.
Руки его были похожи на лапы, и вообще было в нем
что-то страшное.
-- Сидишь, значит? -- остановившись в паре шагов,
хрипло спросил он.
-- Сижу, -- согласился ученый, не в силах отрицать
очевидное.
-- Так вот просто дашь себя сожрать? -- недоверчиво
поинтересовался мужичок, странно облизываясь.
-- Не думал об этом, -- честно ответил ученый. --
А зачем тебе меня жрать?
-- Так ведь эта... белковый компонент, -- нехорошо
ухмыльнулся мужичок.
Ученый поднял голову. Странный человек теперь смотрел
на него в упор. Их глаза встретились.
-- Денис Трофимович? -- изумленно спросил ученый.
-- Ась? -- мужик поморщился, сунул палец в ухо, провернул
его там с сытным чпоком. -- Женька! Ты?! -- и добавил
себе под нос, -- вот дрянь, небось радиоактивный.
Ученый хлопал глазами, вспоминая студенческие годы,
странного преподавателя квантовой механики, который
любил рассуждать о параллельных мирах, намекал, что
во многих из них побывал и везде женщины из-за него
дрались, повторял с загадочной улыбкой, что в уравнении
Шредингера можно "обратить время вспять", и никогда
почему-то не знал, где писать постоянную Планка, в
числителе или в знаменателе. На экзамене студенты
ему старались не попадаться. О неудачниках говорили:
"Еще одного сожрал Троф." Троф -- это была его
кличка.
Ученый спросил:
-- Как вы здесь оказались, Денис Трофимович?
Мужичок прижал кулак к носу, пофыркал, как будто
понюхал его; передернул плечами. Кулак у него был
волосатый.
-- Так, -- неопределенно сказал он, отнимая кулак от
лица, -- за одной там. Такая была... аппетитная.
Ну, я за ней и пошел.
-- А она что? -- спросил ученый.
-- А она, оказалось, служит у одноглазого. И вообще
не эта... не из наших... то есть, теперь-то уж не из ваших...
не хомо сапиенс.
-- А кто же? -- Женя, то есть, Евгений Львович во все
глаза смотрел на Трофа.
-- Лиса, -- коротко сказал тот. -- Ну ладно, что было,
то быльем поросло. Заболтался я с тобой. А мне другой
вопрос решать надо. Жрать мне тебя или не жрать.
Из-за горизонта, рваного, мятого и чуть фиолетового,
похожего на края медузы, которая сохнет на берегу,
потянуло сырым сквозняком -- как от окна с закачавшейся
вдруг занавеской. Белый порошок, разбросанный
по кочкам, распространял отчетливо химический запах.
-- Горизонт можно сместить, -- задумчиво произнес
вслух ученый.
-- Ты подожди, -- сказал Троф, подбираясь ближе, и
походка его была странная, он перемещался согнувшись,
как бы прыжками, и должен был опираться на передние
лапы, то есть, тьфу, подумал Евгений Львович, конечно,
на руки, на тыльные стороны кистей рук, покрытые
жесткими волосами. -- Ты что там собрался смещать?
Естественную науку разводить, опыты экспериментировать?!
Гляди у меня! Ишь, Ньютон выискался. (Говоря "Ньютон",
он делал ударение на последний слог.) Я тут физики не
потерплю! Потреблю все твое эм це квадрат до последней
калории!
-- Открывайте рот, Денис Трофимович, -- устало сказал
ученый.
Троф остановился. С углов рта его на подбородок натекала
струйка слюны. Он стер ее, или, скорее, отвел рукой
в сторону.
-- Ты что, -- он сказал тихо, отчего-то с трудом
выговаривая слова, -- совсем жить надоело?
-- "Самурай выбирает смерть," -- махнув рукой,
процитировал ученый из книжки. -- Давайте, не тяните. --
Он уже встал на ноги и, качнувшись, сделал шаг в сторону
странного собеседника. Болото зачавкало, белый порошок
намок под ногой.
-- Ладно, -- хмуро проговорил Троф, и стало ясно, что
стесняет его необходимость сдерживать челюсти, стремившиеся
распахнуться, -- скажи только, Жень, как там Петька
мой, все колобродит?
Ученый удивился было, потом вспомнил:
-- Апостол?
-- ДаАААА, -- хлоп! зубы стукнулись о зубы, -- дразнили
вы его так, моего ассистента. Славный был, жирненький,
живчик такой. Петяра мой, а?
-- Воду очищает, -- пожал плечами Евгений Львович.
-- Как?! Магия? -- хлоп! верхняя челюсть стукнулась
о нижнюю. Денис Трофимович явно был потрясен.
-- Вроде того, -- усмехнулся ученый, -- магические
фильтры с секретной формулой.
-- Вот жулик! -- восхитился Троф и причмокнул языком,
тут же снова отерев рот. -- Зазвать бы его сюдаААААААА!
На сей раз он не справился с челюстями. Открываясь,
открываясь и открываясь, так, что весь Троф почти вывернулся
наизнанку, они образовали довольно широкий вход, и дальше
ждать было нечего. Ученый собрался с духом и шагнул в
разинутую пасть.
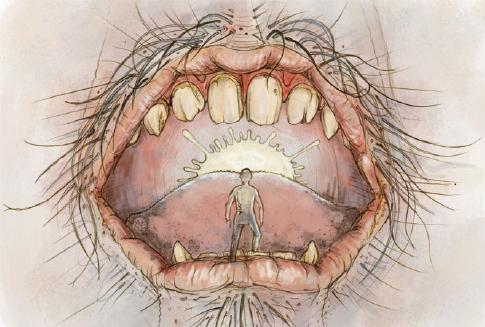
|
|
-- Да? -- сказал писатель. К сыру влекло, но уже
не с прежней силой. Он отодвинул левой задней лапой плетеный
табурет, а правой передней вытер лоб. -- А почему? Нет, --
поспешно добавил он, заметив дикое выражение в черных
глазках сторожа, -- не бойся, я не псих какой-нибудь.
Просто, ну, знаешь, -- он подбирал слова, -- я пока
сидел тут -- много думал. Как будто сто жизней прожил.
Ну и запутался немного в них, понимаешь? Потерял связь
с реальностью.
-- А, -- сторож даже обрадовался, облизнулся и фыркнул
носом; посмотрел на писателя осторожно и сразу снова
уставился на сыр. -- Это как мой прадед, старик Кыш
Тохтамыш. Он не такой уж старый тогда был, все
понимал. Ходил быстро что на своих двоих, что на своих
четверых -- молодых обгонял. А как задумается -- такое
вытворял! (Сторож оглянулся, как будто проверял, не
слушает ли кто, но никто из посторонних не подходил
к Мышеловке.) В рифму говорил.
-- А что, нельзя? -- удивился писатель.
Сторож снова вздрогнул и отступил еще на шаг.
-- Так его же и звали в рифму, -- писатель заметил, что
говорит не то, но все-таки продолжал, -- как ты сказал?
Кыш Тохтамыш.
-- Это -- имя, -- медленно ответил сторож. -- Имя дает
начальник. Начальнику можно. Гражданину -- нельзя.
И тут писатель вспомнил! Странно, ему казалось,
это было из другого рассказа. Но он уже заметил,
что и вещи, и даже герои здесь иногда проникают
из одной книжки в другую -- что называется, не в
первый раз. Значит, это здесь, в мышелюдском царстве,
мышелюдском государстве, главные начальники так
боялись, что у них отберут их начальническую
власть, что сначала запретили всем мышегражданам
носить оружие, потом изучать науки (а то вдруг
сами додумаются, как сделать пушку или гранату),
потом и буквари запретили на всякий случай
(а ну как найдут где-нибудь старые книги
и выучатся по ним опасным наукам)!
А когда простым мышелюдям, не из начальства,
осталось только рассказывать друг другу сказки
и истории, главный начальник понял, что стихи,
рифмы, тоже нужно запретить. Потому что стихи
легче запоминаются, а чем больше помнишь, он объявил
народу, тем больше знаешь, а много будешь знать --
скоро состаришься. А поскольку врачей и лекарства
уже тоже успели запретить, первый долг начальника
был беречь здоровье вверенных ему граждан. Самим
начальникам, чтобы удобнее было управлять,
рифмы разрешались.
И тогда писатель понял, что он должен делать.
Сторож не причинил ему зла. Он не хотел вредить
сторожу. Он от души надеялся, что и не будет ничего
плохого для сторожа, если не бить его, не кусать,
не душить, не царапать, не дергать за хвостик,
а просто взять и разрушить этот мир.
Он выпрямился, открыл пасть и начал наугад:
-- Восемь лапок, две головки,
Два хвоста, вода и сыр.
В черной клетке, в мышеловке
Начинают мышки пир!
-- Перестань, -- попросил сторож.
-- Что вы, прутья, задрожали?
Страшно вам и тесно вам?
Где стояли, там упали,
Чтобы место дать словам!
-- Ты... ты сломаешь ее, -- сказал сторож.
Вокруг них падали прутья.
-- Чем вы были, станьте снова,
Рассчитайтесь раз на два!
То, что начиналось словом,
Возвращается в слова!
Сторож выронил сыр, заслонил рукой, а не лапой
глаза и пищал. Мышеловки как не бывало. Между
начальниками -- теперь это было видно издалека --
началась паника: мундиры, ордена, знаки отличия
исчезали. Мышелюди на улицах превращались в обычных
людей.
Писателю показалось, что он поднимается во весь рост,
становится выше, у него закружилась голова. Сесть
было некуда. Он оглянулся -- плетеный табурет исчез.
Воздух вокруг лопался и разваливался, как цветная
мозаика, задетая рукавом. Начальники почему-то
никак не могли превратиться в людей, они опустились
на четыре лапки, бегали и верещали, их было много,
они, толкаясь, собирались у ног писателя. Очевидно,
кому-то пришла в голову мысль об ответном ударе.
Прямо напротив писателя мыши освободили площадку,
и в середину вытолкнули несколько толстых, растерянных
собратьев. Те еще как-то держались на двух ногах,
старались стать на все четыре, но это выходило
у них неуклюже. Толпа понукала их начальственным
писком, в котором можно было разобрать слова:
"Поэты, вперед!"
Писатель почесал в затылке. Рука стала непривычно
тяжелая, этот жест с трудом удался. Было ему
страшновато, но любопытно.
Поэты тоже боялись.
Наконец один, с туповатой мордочкой, разинул рот.
Шевельнулся красный язык. Остальные молча смотрели,
только дышали громко и быстро. Он сказал:
-- Сыр.
Поэты переглянулись. Начальники попритихли. Ничего
не произошло. Поэт, очевидно, попытался подобрать
рифму:
-- Гзыр. Мзыр. Вызызыр.
Писателю захотелось ему помочь. Все же он решил
пока помолчать и подождать, что будет.
-- Каламсыр Мамзыр Фыфыр! -- торжественно продекламировал
поэт.
-- Может быть, дыр? -- робко предположил другой
поэт, мышелюд с длинным хвостом. -- Например:
Сыр
Состоит из дыр.
-- Да нет же, -- помотал мордочкой другой, -- разве это
гимн? Нужен гимн. Молитва. Начальники же сказали.
Например,
Священный сыр!
Ты мой кумир!
О, снизойди до наших рыл!
Я, раб сосисок и кефиру,
Молюсь божественному сыру!
Все принюхались. В воздухе поднимался сырный туман.
У писателя засосало под ложечкой.
-- Теперь, -- вздохнул третий поэт, самый толстый
и грустный, -- нужно что-то пронзительное. Например,
Облизни усы, а хвоста не трогай.
Дай мне сыру, матушка, на дорогу,
Ты прости-прощай, путь мне лег тернистый,
Ухожу бороться я с экстремистом.
Не бывать целей моей серой шкурке,
На поклон иду к верной смерти-Мурке,
Скажу, здравствуй, Мурка, да как делишки,
Поиграй со мной в твои кошки-мышки,
Я замру в когтях твоих, холодея,
Только дай сперва наказать злодея,
Был я тихий, слабый, а стал отчаянный,
Потому что так приказал начальник.
Высосу злодею глаза до дыр,
Это будет, мать, мой последний сыр,
Вымойся в слезах, выйди за околицу,
Посмотри, как солнце в слезах умоется.
Слушая это, писатель невольно прослезился и сам. Он хотел
сказать мышиным поэтам, что не желает им зла, что если кто
и губит их, то это их собственные начальники... но вдруг
с ужасом почувствовал, что лицо его вытягивается в
острую мордочку, и под носом снова топорщатся твердые,
как из проволоки, усы.
Все возвращалось назад.
Начальники уже поднимались на задние лапы. К одному
вернулся мундир, другой поднял вверх переднюю лапу
и поймал орден. В глазах толстого, грустного поэта
светилась гордость, смешанная со странной обреченностью.
Писатель понял, что он страшно устал. Ну что ж, он
подумал -- не получилось. Сейчас его отведут в Мышеловку.
Усадят на плетеный табурет. Принесут сыр. Что будет
дальше, он тоже знал. Ему было, пожалуй, почти все
равно. И, кстати, очень хотелось сыру.
И тут появился сторож. У него не было ни хвоста, ни
шерсти на лице, но его было легко узнать. Только,
неизвестно отчего, он держался прямо и не боялся.
Он встал рядом с писателем и сказал:
Люди замечают, что в воздухе сыро
От туманов мышьих, от колдовских.
Мышеловки ломятся от бесплатного сыра!
Ну-ка, мышки, в клетку наперегонки!
В считанные секунды все было кончено. Начальники,
снова четвероногие, побежали, толпясь и обгоняя
друг друга. Они мчались по направлению к большой
клетке. Поэты, толстые и неуклюжие, неуверенно
плелись в хвосте. Самый грустный никак не мог
приспособиться к мышиной походке, не то передние
лапы были коротки, не то мешал лишний вес -- он
все время падал.
-- Смотри, -- усмехнулся сторож, глядя ему вслед, --
совсем как альбатрос на палубе корабля.
Пространство вокруг них расчищалось, становилось
пустым -- сначала как большая площадь посреди города,
потом как пустырь далеко за домами, для чего-то залитый
асфальтом, потом -- просто как очень пустое место.
-- Ты не победил его, -- неожиданно для себя
сказал писатель. -- Того, толстого. Мышиного
альбатроса.
-- Нет, -- пожал плечами сторож. -- Он свое дело
знает.
-- А как же...? -- писатель не закончил вопроса.
-- А зачем его побеждать? Он подчиненный, слуга.
Сам так выбрал. А начальников победить проще
простого. Это ты мне сам и показал, а я понял.
Писатель посмотрел на него. Светловолосый, невысокий
человек, глаза карие. На мышь не похож.
-- Откуда ты взялся, сторож? -- спросил писатель.
-- Да что я тебе за сторож, -- улыбнулся человек. --
Я путник, а не сторож. Так... путешественник.
-- А здесь ты откуда? -- настаивал писатель; этот
вопрос казался ему очень важным.
-- Так... -- неопределенно ответил человек, -- попал
в сказку.
И писатель не слишком-то удивился, когда человек при
этих словах превратился в птицу. В белую ворону,
в ворону-альбиноса превратился он, и взмыл в небо.
Что ж, в небо так в небо, хочешь -- бегай на четырех
ногах, хочешь -- на двух, хочешь -- пари по воздуху,
ты же свободный человек; вот как примерно думал
себе писатель.
-- Но все же, -- сказал он вслух, -- раньше я не так
представлял себе белых ворон.

Ученый шел по улицам Нетополя. В том, что это тот самый
город, сомнений не было. То есть, сначала были, потому
что все нужно проверять, и ученый в раздумье остановился
у указателя "Площадь Бесчеловечная -- 100 хвостов".
Указатель был пестрый, похожий на верстовой столб, и на
нем был нарисован глаз, а не хвост.
-- "Хвост" -- это что такое? -- вслух проговорил ученый.
Указатель даже подпрыгнул.
-- Ты не знаешь, что такое хвост? -- спросил указатель.
Ученый вздрогнул, отступил на шаг, но быстро взял
себя в руки.
-- Я просто подумал, -- вежливо объяснил он, -- это единица
измерения или что-то другое?
-- Измеряют не в единицах, а в хвостах, -- наставительно
произнес указатель, посмотрел вниз на свой столб и вкрутился
им немного глубже в землю для солидности. -- Написано же
ясно.
-- Пусть так, -- пожал плечами ученый. -- А что, хвосты
у вас длинные?
Указатель моргнул глазом.
-- У меня, -- он сказал, -- нет хвоста. Это нога.
-- Извините, -- сказал ученый.
Он решил идти на Площадь Бесчеловечную. Взглянув еще
раз, куда показывала стрелка, он вступил на мощеную
камнем дорожку нужного направления. На боку у себя
он нащупал вдруг дорожную сумку и удивился -- он твердо
помнил, что ничего такого не брал с собой.
-- Мой друг, -- указатель сказал ему вслед.
Ученый остановился. Он дал себе слово пока ничему
не удивляться, не думать о том, откуда берутся
так называемые чудеса. Это могут быть иллюзии,
самовнушение или сложная, далеко вперед ушедшая
техника старших цивилизаций -- на досуге найдется
время разобраться. Если получится. Если из этой
"страны чудес" простой ученый может вернуться живым.
И все-таки его сильно задело такое обращение
указателя. "Мой друг," -- это звучит снисходительно,
да еще от какой-то палки с табличкой!
Он медленно обернулся.
-- Мой друг, -- повторил указатель. -- Я уже не
молод. Во всяком случае, меня сделали не вчера.
-- Меня тоже, -- мрачно сказал ученый.
-- Тогда вы меня поймете, -- как будто обрадовался
указатель. Он даже подпрыгнул, разбрасывая комья
земли, но тут же постарался вкрутиться на место.
-- Я хотел просить вас... просить передать одной
очаровательной указательнице... что у меня серьезные
намерения. Пожалуйста, сделайте это, и я ваш
вечный должник!
Ученый так удивился, несмотря на все обещания, каких
себе надавал, что спросил:
-- А какие у вас намерения?
-- Серьезные, -- повторил указатель. -- Да, это
может показаться странным, но, поверьте, у меня
было время их обдумать. Я решил соединить с ней
свою судьбу!
-- Но... -- пробормотал ученый...
-- Не отговаривайте меня, -- вздохнул указатель, --
я твердо решил!
-- А скажите, -- ученый был совершенно сбит с толку, --
что же выйдет из... из такого союза?
-- Послушайте, -- вспылил указатель, так что над его
ногой поднялась тучка пыли, -- я уже не маленький,
ведь я вам сказал. Я помню тот день, когда королеву
Неклементину затянуло в Тоннель!
-- Постойте, -- тихо попросил ученый, но указатель,
похоже, стоять спокойно уже не мог:
-- Я помню те времена, когда Кротовые Норы возникали
и тут, и там, путешественники искали их на свой страх
и риск, и это было разрешено! Указатели появлялись
и исчезали вместе с Норами, несерьезные, однодневки;
хотя иногда я думаю, может быть, они были счастливы... --
и он поднял глаз к небу.
-- А... -- сказал ученый, воспользовавшись паузой, -- а...
-- Вы, конечно, хотите сказать, что я увлекся, и эти
детали вас не интересуют, -- горько заметил указатель,
покачав табличкой с надписью "Площадь Бесчеловечная".
-- Нет, нет, -- живо возразил ученый, подходя ближе, --
наоборот!
Но указатель не слушал возражений:
-- Конечно, -- он сказал, -- я знаю, что такие решения
ведут к серьезным последствиям. Но мое я принял, и
это бесповоротно. Так что -- смелее, скажите ей! --
и он посмотрел на ученого своим глазом.
-- Хорошо, -- сдался ученый. -- Но как я ее найду?
-- Ах, простите, -- смутился указатель, -- мы, влюбленные,
так легко упускаем подобные мелочи! У нее тонкая полосатая
ножка, и такой милый внимательный взгляд...
-- А что написано на ее табличке? -- спросил ученый.
-- Позвольте... одну минуту... -- указатель задумался. --
Да, без сомнения! Она указывает на Апельсиновую Рощу.
Конечно, если она... если она не предпочла мне... если
она еще не дала слово... но это невозможно, я уверен!
-- Так, -- сказал ученый. -- А скажите... когда она
предпочтет вас...
-- У меня есть основания на это надеяться и даже
рассчитывать, -- прервал его указатель. -- Вы хотите,
чтобы я изложил их вам?
|
|
-- Так, -- снова сказал ученый, -- а что же будет
с Апельсиновой Рощей?
-- Ну, Роща будет где-то еще, или исчезнет, это ведь
бывает по-разному. Я так думаю, многие указывают на
нее, так что она останется, быть может, на прежнем
месте.
-- А Площадь Бесчеловечная? -- спросил ученый. -- Она
может исчезнуть?
-- Так-то да, -- начал было указатель...
-- Судя по ее названию, -- заметил ученый, -- она должна
быть весьма многолюдной. И она может вот так вот исчезнуть
со всеми людьми, по воле двух указателей?
-- Странно вы судите по названию, -- бог весть почему
обиделся указатель, -- на Площадь, конечно, изредка
забредают путешественники, но в основном ее населяет
мой народ. Указатели, плакаты, транспаранты. Я сразу
понял, что вы издалека.
Указатель соврал. До сих пор он и не задумывался,
откуда взялся этот странный прохожий.
-- Не сомневался в вашей проницательности, -- съязвил
ученый.
В небе, розоватом в силу каких-то небесных причин,
затевалась смена погоды: здоровенная туча приближалась
с запада. Туча как туча, темная, клочковатая, и гнал
ее ветер, пока еще никак не ощущаемый у земли, но что-то
в ней заставляло насторожиться.
-- Мне нужно идти, -- сказал ученый, -- хотелось бы
обогнать тучу.
Указатель поднял к небу свой глаз.
-- Опять, -- сказал он. -- Налет посуды-оборотня.
Бегите! Помните о моей просьбе!
-- Как? Посуды-оборотня?! -- ученый, не успев сделать
шага, остановился.
-- Да бегите же! -- нетерпеливо вскричал указатель. --
Посуда-оборотень, вер-чашки, вер-ложки, вер-бокалы,
вер-кастрюли, наконец! Совершенно дикие! Никогда
не знаешь, что и куда им взбредет!
Ученый побежал туда, куда, как он помнил, указывал
указатель. (Сейчас-то указатель смотрел в небо,
как если бы там и располагалась площадь с его
таблички, и к тому же неодобрительно цокал длинным
чернильного цвета языком.) Мостовая, по которой
бежал он, была странная -- откуда-то он знал, что
это городская улица, но находилась она посреди степи,
и если по сторонам ее попадались дома, то они напоминали
курганы. Мысли у него в голове были непривычно маленькие,
легкие, чем-то похожие на мух.
"Что может взбрести кастрюле? -- думал ученый. --
И куда оно может ей взбрести? Наверное, под крышку,
если в полете крышка не потерялась. Туча уже близко,
потому что кастрюли летают быстро. Когда же
кончатся сто хвостов? Я бегу и бегу, и до сих
пор не встретил ни одного хвоста."
И тут он, действительно, встретил хвост. Понял он
это, поднимаясь с мостовой и потирая коленку. Хвост
был лисий. Он лежал поперек дороги и коварно
хихикал.
-- Вы -- хвост? -- глупо спросил ученый, забыв
на минуту, как он спешил.
Хвост, видимо, был веселый. Он ответил:
-- Да, -- и тут же запел себе под нос что-то вроде, --
Я хвост, да я прохвост, да я перепроперехвост!..
-- Я об вас споткнулся, -- с укором сказал ученый.
-- Ничего, -- ласково ответил хвост, -- я привык.
Ученый бросил еще один взгляд на хвост, безмятежно
протянутый через дорогу. Он был ярко-рыжий, и за
время лежания ничуть не запылился.
-- Я пойду, -- сказал ученый. -- Мне надо бежать.
-- Смотрите под ноги, -- предупредил его хвост.
Ученый побежал, думая о том, что еще в детстве
совет "смотреть под ноги" казался ему невыполнимым.
Если бежишь и пытаешься смотреть себе под ноги,
то падаешь обязательно. Конечно, эти слова --
как все советы, которые дают детям -- значили на
деле что-то другое. Иногда удается в конце концов
понять, что, а иногда нет. Вырастаешь и просто
передаешь неразгаданный совет детям, если под
руку подвернутся.
|
|
-- Тут ты прав, -- прокрутившись вокруг своей
оси и покачавшись вправо-влево, смущенно ответил
таз. -- Я, действительно, запылился.
-- Да я и сам запылился, -- махнул рукой ученый, --
здесь же у вас вихри и ураганы. Я не об этом.
-- А о чем? -- спросил таз.
-- Откуда таз может знать про Трофа? У вас что,
все тазы о нем знают?
-- Но ведь я, -- сказал таз, -- не простой таз.
Я таз-прорицатель.
По бокам его со звоном шлепнулись несколько кружек.
-- Хи-хи, ха-ха-ха, -- задребезжали они, -- жестянка
опять дурит! Никакой он не прорицатель, не слушай
его, приятель! Он просто псих, крышу ему ветром
сдуло и в болото окунуло, плюх и плих! Вообразил
себя прорицателем!
Таз смущенно молчал. Кружки принялись как бы невзначай,
подпрыгивая, толкать его в круглые бока.
-- Он, может, и не прорицатель, но и я вам не приятель, --
сердито сказал ученый. -- Не лезьте к нему.
-- А тебе-то что? -- спросила белая кружка с отколотой
эмалью возле ободка и еще в одном месте, у самой ручки.
-- Как это нам не лезть к нему? -- в то же самое время
спросила другая белая кружка, очень похожая на первую,
только эмаль у нее была отколота в другом месте. --
Это наша прямая обязанность!
-- Мы -- санитары! -- сказала третья такая же кружка.
-- Давайте, я угадаю, -- предложил ученый. -- Вы --
санитары в клинике для душевнобольных?
-- Ага, для психов, -- сказали кружки.
-- И в то же время вы кружки-оборотни? -- продолжал
ученый, тщательно подбирая слова. -- По совместительству?
-- Ну елки, ты что, сам не видишь? -- спросили кружки. --
Псих, что ли?
-- Вон кофейная чашечка приземлилась, пошли ее
дисциплинировать! -- закричала одна из кружек, глядя
куда-то вперед по мостовой; тут же они снялись с места
и поковыляли в направлении кружкиного взгляда. Ученый
подумал, что они могли бы и полететь -- но почему-то
не сделали этого.
-- Они правы, -- грустно сказал жестяной таз. --
Они действительно санитары. А я в самом деле... их
пациент.
-- А кофейная чашечка? -- спросил ученый. -- Они что,
правда будут ее дисциплинировать?
-- Надеюсь, ей помогут, -- ответил таз. -- У них там
целый сервиз.
-- Но как же получается, что вы все -- вер-тазы,
вер-чашки, вер-кружки? Простите, если я... -- поспешно
стал извиняться ученый.
-- Да любопытствуйте, -- сказал таз, -- мне-то что.
А кто, значит, вам внушил эту глупость про вер-кружки?
-- Да так, -- ответил ученый. -- Один указатель, -- он
вытер ладонью лоб. Ему показалось, что в этот момент
таз посмотрел на него с завистью. Хотя так это или нет,
судить было трудно. -- А что, он наврал?
-- Не думаю, -- усмехнулся таз. -- Обычное невежество.
Со склонностью, знаете, верить во всякое
сверхъестественное.
-- Ага, ясно, -- сказал ученый. -- Что же, бывает.
А тут, значит, никаких чудес, да?
|
|
Они помолчали.
-- Сказок начиталась ваша фея, -- сказал ученый. --
А с ними знаете как. Я и сам не уверен, что я
в здравом уме.
-- Ну, я-то точно не в здравом, -- заметил таз. --
Только от этого не легче.
-- А зачем вы летаете? -- спросил ученый.
-- Так ведь бесимся, -- просто ответил таз.
-- Да, действительно... -- задумчиво протянул ученый. --
Никаких чудес. Все обычно, можно сказать, рутина.
А какова процедура... расколдовывания?
-- Что? -- удивился таз.
-- Ну, -- сказал ученый, -- теперь, вероятно, юная девушка
должна полюбить вашего главврача, несмотря на то, что он,
значит, того, самовар... полюбить не за то, чем он
кажется, а за внутреннее содержание...
-- Не понял, -- сказал таз. -- Паутина у него внутри.
Ну, можно налить в него воду и как-то, думаю,
вскипятить... Но, честно говоря, никогда не слышал,
чтобы суп из вареных пауков с мушиными шкурками
настолько нравился девушкам.
-- Но тогда... -- сказал ученый. -- Тогда, может быть,
его должна узнать родная мать?
-- Я слышал, -- отвечал таз, -- что его мать давно уже
подала заявку Хранителю Апельсиновой Рощи, чтобы ее
превратили в какое-то там цитрусовое дерево или куст.
И эта заявка уже лет десять как удовлетворена. Так
что вряд ли есть шанс, что она его узнает.
-- А зачем?! -- поразился ученый. -- Зачем она это
сделала?
Таз покачал боками:
-- Редкий психоз.
Ученый почесал в затылке:
-- Мда, непростой случай. Как же быть теперь?
Таз посмотрел на него странно. Ученый вдруг подумал,
что это и само по себе престранная вещь: таз с глазами.
Зрение человека в основном осуществляется в мозгу, для
этого нужно много обрабатывающих устройств, глаз ведь
только улавливает свет -- ну, способствует спектральному
анализу -- остальное совершается в голове. А у таза где
остальное? Здесь все сложнее, может быть, и глаза --
одна видимость. Но они смотрели, передавали чувства
(как определенно казалось). Они бегали. По окружности,
в основном, под большим ободом, но могли немного
двигаться вверх и вниз.
-- А что, -- спросил таз, -- заставляет вас сидеть
здесь? Вы все еще думаете, что мы опасны?
-- Нет, но... -- начал было ученый.
-- У вас ведь были дела на Бесчеловечной Площади? --
перебил его таз.
-- Да вы-то откуда знаете про мои дела? -- спросил
ученый.
-- Я объяснил, -- пробормотал таз, несколько сникнув. --
Точнее, вам объяснили. Я болен. У меня мания.
Воображаю себя провидцем и прорицателем.
-- Насчет мании я усвоил, -- сказал ученый. -- А вот
скажите, какая у вас была до этого профессия?
-- Такая и была, -- спокойно ответил таз.
Ученый смотрел на него во все глаза и молчал.
-- Последний вопрос на прощание, -- наконец, медленно
произнес он, -- имя "Федора" вам что-нибудь говорит?
-- Федора... Теодора... гм. Пожалуй, нет, -- после
некоторого размышления отозвался таз. -- Почему-то
мне представляется, что так должны звать пожилую
даму... Если хотите, попробуйте уточнить у них, --
он кивнул ободком куда-то наверх и вправо.
Ученый поднял глаза и увидел, что его хвостатая
мостовая больше не петляет среди курганов. В этом
месте, где он остановился побеседовать с тазом,
она, скорее, напоминала не слишком широкий бульвар.
По бокам ее были высажены деревья. Листьев не было;
вероятно, в Нетополе стояла поздняя осень или даже
зима, хотя воздух казался теплым. Вместо листьев,
птиц и прочего, что бывает на деревьях, там
сидела посуда. Чугунные сковородки располагались
на нижних, самых толстых ветках. Кастрюли сидели
этажом выше, тарелки -- еще выше, а на самом верху
бокалы из тонкого стекла насаживались на сучья
ножками вверх. Все их внимание, очевидно, было
приковано к собеседникам.
-- Да нет, чего там уточнять, -- сказал ученый. --
Знаете что? Позвольте, я вас платочком вытру. --
Он извлек из кармана клетчатый носовой платок
старого образца. Ученый им гордился. Все давно
уже перешли на бумажные платочки, а он им как-то
не доверял.
Таз подкатился к нему с чрезвычайно растерянным
видом. Ученый взял его за ободок и принялся тщательно
протирать его изнутри и снаружи; пару раз пришлось даже
плюнуть на платок, чтобы отчистить присохший болотный
мох.
Сноп искр был ослепительным. Ученый зажмурился.
Ему на руку попала горячая снежинка и тут же
сорвалась или растаяла, не оставив следа. Деревья
вокруг звенели и дребезжали, как потрясенные
новогодние елки. Ученый открыл глаза. Потом еще
раз крепко закрыл их и помотал головой. Потом
открыл снова.
-- Привет, -- сказал ему писатель, глупо улыбаясь. --
Ты знал, что это я?
-- А ты? -- спросил ученый.
-- Я -- нет.
Они снова посмотрели друг на друга и громко
расхохотались.
-- Придется нам ненадолго сойти с маршрута, --
отсмеявшись, сказал писатель. -- Видишь, вон
блестит? Это, наверное, ручей.
-- Я готов, -- отозвался ученый. -- Но я хочу,
чтобы ты отдавал себе отчет: когда мы их отмоем,
у нас на руках будет сумасшедший дом в полном
составе. Включая буйнопомешанных. Возможно...
Дружный вопль восторга со всех окрестных деревьев
заглушил продолжение этой фразы.
-- Кажется, -- заметил писатель, когда все стихло, --
буйных здесь большинство. Кстати, мой друг, тебе
самому не мешало бы почистить брюки!
-- Я и носовой платок постираю, -- отозвался
ученый язвительно.
Смеясь, они пожали друг другу руки и отправились
напрямик к ручью. Следом за ними, отчаянно галдя,
с деревьев снимались тучи столовых сервизов, кухонной
утвари, мелких обеденных приборов. В хвосте процессии,
смущенно оглядываясь по сторонам, брел на четырех
ножках большой пыльный самовар, слегка запачканный
сажей.
|
|
Хвост поморщился и слегка отстранился от второй ноги
ученого, которую, действительно, как бы невзначай
обхватил кольцом.
-- За такие, с позволения сказать, ноги, -- ответил он, --
пусть цепляются бельевые веревки. Уважающий себя хвост
не станет мараться.
Ученый оглядел свою штанину. Она и правда была в дорожной
пыли.
-- Слезь с моей левой ноги, -- сказал он писателю. --
Понимаете, -- снова обратился он к хвосту, -- вы же и
лежите неравномерно: то в двух шагах друг от друга,
то в сотне. Как же в вас можно длину измерять?
-- Длину, -- ответил хвост, -- измеряют не в шагах,
а в хвостах.
-- Да об хвосты, об вас, то есть, только спотыкаются! --
воскликнул ученый.
-- Послушай... -- снова начал было писатель, обращаясь
к нему.
-- Споткнуться о хвост -- это событие, -- терпеливо
объяснил свиной хвост. -- В таких событиях и измеряют
длину. Если это длина дороги.
-- Гм... Вот как, -- гнев ученого как рукой сняло. Он
задумался. И повернулся к писателю:
-- Я, кажется, понял...
-- Пожалуйста, извините нас, -- перебил его писатель.
Он обращался к хвосту. -- Мы не здешние.
-- Это я заметил сразу, -- усмехнулся хвост.
-- Да, простите, -- рассеянно сказал ученый.
-- Ну... если вы так просите... -- хвост как будто
смутился.
Ученый кивнул ему, взял писателя под руку и подтолкнул
его вперед.
-- Я понял! -- повторил он. -- Понял, откуда хвосты!
-- Этот, например, был от свиньи, -- писатель пожал
плечами. -- Не тащи ты меня, пожалуйста, под руку,
я пойду сам. Не маленький.
-- Я понял, -- в третий раз сказал ученый, -- зачем
измерять дорогу в хвостах! Смотри. Здесь это обычное
дело -- фея или уж я не знаю кто произносит проклятие,
а дальше все происходит по ее слову. И все мучаются.
Ну или просто живут.
-- Ну и что?
-- Она, может, и сама не знает, как это будет выглядеть,
сказала и пошла... -- вдруг добавил ученый.
-- Ты давай к делу, -- посоветовал писатель. --
Обдумать права и обязанности фей мы еще успеем,
если доживем.
-- Да я все сказал уже, -- с досадой ответил ученый. --
Ну, что-то тут случилось, фею рассердил человек, или
зверь, или бревно какое-нибудь, или сама эта мостовая.
И она его прокляла. Если это, допустим, пешеход был,
сказала -- "и пока о сто хвостов не споткнешься..." --
или: "пока сотню хвостов не оборвешь..." Вот вся
эта конструкция с тех пор и возникла.
-- Хорошо придумал, -- похвалил писатель. -- Похоже
на то, как тут все работает. -- И он хитро прищурился. --
Я вот думаю, а давно ли кое-кто зажимал уши при
слове "фея" и решительно не верил ни в какие
проклятия?
Ученый поморщился.
-- Все это, -- он сказал, -- вопросы терминологии.
И тут они оба споткнулись.
-- Что это? -- изумился писатель.
Тонкий шнурок, уходивший двумя своими концами
в далекую бесконечность -- один вперед по дороге,
все ближе припадая к обочине, другой куда-то вправо,
тоже вытягиваясь в прямую -- приподнялся в месте
своего закругления и хлестнул путешественников
по ногам. Сделав это, противно захихикал.
-- Чей это хвост?! -- писатель поднялся и,
потирая ногу, потянулся было потрогать странный
шнурок.
Ученый задержал его руку:
-- Это хвост Парето. Бежим!
|

 Говоря последние слова, кот таял в воздухе. Лапы,
хвост, грузное туловище исчезали на глазах, как бы
размазываясь некрасивым пятном. "Сейчас одна
улыбка повиснет тут," -- с раздражением подумал ученый;
его тошнило. Но и сама улыбка быстро исчезла,
сверкнув зубами. Ученый остался один. Вокруг
него нарисовалась болотистая местность на сером
свинцовом фоне; пожалуй, что-то было в этом унылом
зрелище, цепляло за сердце. Только несколько портил
вид рассыпанный по кочкам, по извилистым корягам, по
мелким кустикам с красными и желтыми ягодами подмокший
грязновато-белый порошок. "Для чего он здесь? --
рассеянно подумал ученый. -- Удобрения? Магия
какая-то?" -- и тут же, рассердившись на себя,
приподнялся и сел. Сидеть был мокро. "Легко же
я готов списать все на магию. Леность ума, уходящего
от объяснений! "Магия" -- из всех самое неинтересное."
Настоящие ученые думают так, и тут с ними не сговоришься.
На то у них есть причины. А на самом деле магия -- это
искусство говорить правду.
Говоря последние слова, кот таял в воздухе. Лапы,
хвост, грузное туловище исчезали на глазах, как бы
размазываясь некрасивым пятном. "Сейчас одна
улыбка повиснет тут," -- с раздражением подумал ученый;
его тошнило. Но и сама улыбка быстро исчезла,
сверкнув зубами. Ученый остался один. Вокруг
него нарисовалась болотистая местность на сером
свинцовом фоне; пожалуй, что-то было в этом унылом
зрелище, цепляло за сердце. Только несколько портил
вид рассыпанный по кочкам, по извилистым корягам, по
мелким кустикам с красными и желтыми ягодами подмокший
грязновато-белый порошок. "Для чего он здесь? --
рассеянно подумал ученый. -- Удобрения? Магия
какая-то?" -- и тут же, рассердившись на себя,
приподнялся и сел. Сидеть был мокро. "Легко же
я готов списать все на магию. Леность ума, уходящего
от объяснений! "Магия" -- из всех самое неинтересное."
Настоящие ученые думают так, и тут с ними не сговоришься.
На то у них есть причины. А на самом деле магия -- это
искусство говорить правду.